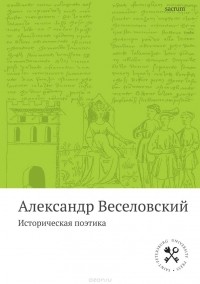Больше рецензий
30 апреля 2018 г. 05:46
486
5 Тростинкой обернешься-свирелью моей станешь, буду петь-играть,тебя целовать...
РецензияДело пойдет об отличии языка поэзии и языка прозы. Скажем, не обинуясь: язык поэзии с лихвой орудует образами и метафорами, которых проза чуждается; поэзии свойственен ритмический строй речи, которого, за исключением некоторых моментов аффекта, чуждается обыденная речь. Но - если для Гете поэзия становится таковой лишь при наличии ритма и рифмы, то мы знаем «стихотворения в прозе» у Тургенева, знаем и стихи, не знающие размера, но производящие впечатления поэзии у Уолта Уитмена. Так что такое язык поэзии и язык прозы? Что есть поэтический стиль?
Аристотель в «Риторике», как протоколист, различая язык поэзии от прозы говорит о ясности стиля, который должен быть «ни слишком низок, ни слишком высок», но должен походить к предмету речи.
Далее- поэтическому языку присуща «изукрашенность», так как отступления от обыденной речи делают ее более торжественной: ведь люди так же относятся к стилю, как к иноземцам-и своим согражданам. Потому следует придавать языку характер иноземного, ибо люди склонны удивляться тому, что приходит издалека, а то, что вызывает удивление-приятно. В стихах многое производит такое действие и удалено от житейской прозы.
Главное требование, которому должен отвечать хороший стиль- экономизация внимания со стороны слушателя; это требование определяет выбор слов, их порядок в речи, ее ритмичность. Слова, усвоенные в детстве, нам более понятны усвоенных позднее. Такой же экономии внимания отвечают краткие по объему слова, но порой многосложные слова, эпитеты выразительнее своих более кратких синонимов, ибо дают читателю возможность более остановиться на свойствах возбужденного ими образа. Отсюда –можно защитить и иностранные слова, если они плодят ассоциации идей, которые свои синонимы уже не вызывают.
Экономии внимания отвечают и слова с звуковой образностью: «И в Лету бух!», а конкретные слова выразительнее отвлеченных, ибо мыслим мы частностями и особенностями и нам стоит труда перевести отвлеченное выражение в образное. Достоинство стиля в том, чтобы доставить возможно большее количество мыслей в возможно меньшем количестве слов. Употребление слов, выразительных сами по себе и по возбуждаемым ими ассоциациям дает в результате ПОЭТИЧЕСКИЙ стиль. Поэт употребляет символы ,эффективность которых подсказывает ему инстинкт и анализ.
Объяснение ритма послужит оправданием и рифмы. Наносимые нам удары заставляют держать мускулы в излишнем, порой ненужном напряжении, потому что повторения удара мы не предвидим; при равномерности ударов мы экономизируем силу. Вот объяснение ритма.
…Поэтический язык состоит из формул, которые известное время вызывали известные группы образных ассоциаций. Так, формула КЛЮЧ К СЕРДЦУ известна в Швейцарии, Эльзасе, Австрии и др. Либо ключ потерян и его никогда не найти, либо он в руках одного милого или милой. Тот же образ знаком шотландской, французской, каталонской, португальской, итальянской, греческой и галицкой песням. У нее были ключи от моего сердца. Я вручил их ей однажды утром- поют в Каталонии. В греческой песне другой оборот: -Если бы вместо рук у меня было два золотых ключа, чтобы открыть твое сердце, где у меня ключи? У дантовского Пьера делла Винья тоже два ключа от сердца Фридриха. Милый заключен в сердце, его берегут, холят, не выпускают. Мы приучаемся к этой этой работе пластической мысли, как приучаемся соединять со словом ряд известных представлений об объекте. Это дело векового предания, бессознательно сложившейся условности. Поэтические формулы-это нервные узлы, прикосновение к которым будит в нас ряды определенных образов, в одном более, в другом менее, по мере нашего развития, опыта и способности умножать и сочетать вызванные образом ассоциации.
Как повторялась и повторяется стилистическая формула «желания», так повторяются веками сюжеты Фауста и Дон-Жуана. Лев Толстой думал, что сюжеты, заимствованные из прежних художественных произведений-не искусство, а «подобие искусства». На это уже отвечал Пушкин:- Талант неволен и его подражание не есть постыдное похищение-признак умственной скудости, но благородная надежда на свои собственные силы, надежда открыть новые миры, стремясь по следам гения». Иных поэтов возбуждает не столько личное впечатление, сколько чужое, уже пережитое. «У меня почти все чужое,или по поводу чужого, и все, однако, мое»,-писал о себе Жуковский.
В стиле прозы нет тех оборотов, образов, созвучий и эпитетов, которые являются результатом последовательного применения ритма, вызывавшего отклики, и совпадения, создававшего в речи новые элементы образности, развившие живописный эпитет. Речь, не ритмизированная последовательно, не могла создать этих стилистических особенностей. Такова речь прозы. Поэзия и проза могли и должны были появиться одновременно: иное пелось, другое сказывалось. Грузинские песни о Тариэле перемежаются прозаическим пересказом отдельных моментов взамен утраченного песенного повествования;латышские песни то сказываются, то поются.Положение, что проза явилась позже поэзии, обобщено из наблюдений над развитием главным образом греческой литературы. Но такой факт так же мало доказателен, как ритмическая проза Корана, построенная по более ранним метрическим образцам.
Другой факт: аристократизация поэзии, служение ее профессиональным и сословно-кастовым интересам, когда содержание ее сужается, и на открытых местах, от которых она отошла, водворяется проза. Так в политике брахманов, устранявших ревниво массы от знания, причина слабого развития санскритской прозы; знание было в руках жреческого сословия и продолжало выражаться в архаических формах-переживаниях: и поэтические, и научные темы, законы и обряды, практические наставления-все по-прежнему облекалось в стихи.
В эпохи переходные, полные начинаний и переломов, мысль, чувство и вкус настроены к выражению чего-то нового, желаемого, чему нет слов. И слова ищут и находят в приподнятом стиле поэзии, поэтический словарь вводится в оборот прозы.Это производит впечатление чего-то нервного, личного, сильного и слабого вместе, искусственной изнеженности и напыщенности. Язык поэзии инфильтруется в язык прозы. Но и прозой начинают писать произведения, содержание которых облекалось когда-то в поэтическую форму.
В после-александровскую эпоху, на почве всесветной монархии, в течениях космополитизма, центрами интереса явились не политические, а домашние, личные отношения, схемы рассказа о личном горе и счастье не укладывались в формы, увековеченные поэтическим преданием. Вместо эпоса в результате перелома общественных отношений явились роман и семейная драма в прозе.