13 июля 2019 г., 11:24
3K
Как переводчики спасают мир
Автор:
В последнее время мне часто доводилось стоять рядом с переводчиком, потому мои книги издавались за рубежом.
Мне трудно выразить облегчение, которое появляется, когда ты можешь разделить авторство с другим человеком. Я была рада избавиться хотя бы от малой толики ответственности за текст, будь это к лучшему или к худшему. Я была взволнована из-за того, что мне не нужно было сталкиваться один на один с агрессивным критиком, сверхчувствительным рецензентом, журналистом без всякого интереса или вкуса к литературе, с надменным и самоуверенным модератором. Я получала истинное удовольствие от осознания того, что не все вопросы будут адресованы мне, что в этой вещице, состоящей из напечатанных страниц, не всё принадлежит мне. Я думаю, что многие писатели могут разделить это чувство облегчения. Но самым удивительным стало то, что присутствие переводчика открыло для меня разнообразные прекрасные миры, поскольку я вступала в споры и обсуждения полностью независимо, касалась вопросов, которые были для меня не совсем понятными, незнакомыми и даже загадочными. Неожиданно текст был освобождён от меня, или, возможно, я освободилась от него. Он получил некую автономию, подобно бунтующему подростку, решившему сбежать из дома и отправиться на музыкальный фестиваль в Яроцине. Переводчик спокойно примет всё на себя, покажет текст миру с другой точки зрения, будет его поддерживать и поручится за него. Какое блаженство. Переводчики освобождают писателей от глубокого одиночества, которое присуще нашей работе – когда мы часами, днями, месяцами и даже годами блуждаем в одиночестве во вселенной наших мыслей, внутренних диалогов и видений. Переводчики приходят извне и говорят: я тоже был там. Я прошёл по твоим следам – и теперь мы пересечём границу вместе. И в самом деле, переводчик буквально становится проводником, который берёт меня за руку и ведёт вперед, через границы нации, языка и культуры.
Литература начинается тогда, когда кто-то подписывает под текстом, который он написал, собственное имя; тогда, когда кто-то стоит за работой как автор, выражая посредством слов свой глубочайший, наиболее значительный, иногда даже травмирующий уникальный опыт, одновременно рискуя, что этот опыт не будет понят, что ему не придадут значение, что его отвергнут или что он разозлит людей. Таким образом, литература – это особенный момент, когда индивидуальный язык встречается с языком других. Литература – это пространство, в котором частное становится общественным.
Широко признаётся тот факт, что первым человеком, подписавшим художественный текст (и поэтому – первым писателем), была Энхедуанна, шумерская жрица богини Инанны. В тёмные времена социальных волнений и борьбы за власть Энхедуанна создала «Гимн Инанне», в котором звучат сомнения и разочарование. Это невероятно трогательный плач человека, который чувствует, что Бог покинул его. Благодаря переводу, который, конечно, осовременивает язык, этот текст вполне понятен и близок современному читателю. Он передаёт глубокие и личные переживания, проходящие сквозь время, и, без сомнения, является универсальным. Эту драматичную, отражающую падение духа исповедь отчаяния и чувства покинутости, созданную около 5 000 лет назад, может прочувствовать кто угодно, живущий в нашем совершенно отличающемся мире – несмотря на то, что все языки тогдашнего мира уже давно (буквально) превратились в пыль.
Личный язык человека формируется в течение всей жизни в результате случайностей: это и язык, унаследованный от родителей, и язык, окружавший человека во время взросления, далее, что он читает и чему его учат – всё это наряду с уникальным личным опытом. Это сокровенный язык, на котором мы обращаемся к самим себе и который лишь иногда записывается, поскольку, конечно, далеко не все имеют привычку записывать свои мысли, вести дневник или создавать какие-либо тексты. Таким образом, сокровенный язык так же уникален, как и отпечаток пальца, и его можно использовать для опознавания личности.
Я думаю, что культура – это сложный процесс установления баланса между личным и общим языком. Общие языки – это проторенные тропы, а личные языки служат персональными тропинками. В общих языках существует договорённость о формах взаимодействия, которые адаптированы для общества таким образом, чтобы быть как можно более понятными для самого широкого круга его членов; прежде всего, они должны передавать информацию, которая позволяет конструировать представление о реальном мире, похожее или идентичное ему самому. В общей реальности слова будут относиться к определённым явлениям и вещам, существующим или воображаемым. В дальнейшем общий язык и представление о реальности будут подкреплять друг друга. Парадокс заключается в том, что в ситуации взаимозависимости между общим языком и пониманием реальности, человек начинает чувствовать себя в ловушке, поскольку язык подпитывает реальность, а реальность – язык. Лучшим примером могут послужить закрытые тоталитарные режимы, в которых контролируемые властями средства массовой информации вымучивают из себя общеизвестную и предсказуемую реальность, выраженную только в разрешённых терминах. В данном случае общий язык служит для поддержания заданного политического видения, а также сознательно и цинично используется в пропаганде. Вскоре общение прекращается и затем становится невозможным.
Вспомнить слово или идею, которые происходят извне, или произнести вслух истину, которая очевидна, но не принята системой, – всё это становится проявлением храбрости. Среди приверженцев этой системы общий язык постепенно становится столь очевидным, что он всё чаще используется бездумно, слова лишаются смысла, контексты становятся слишком избитыми, чтобы воскресить их в памяти. Такого рода язык превращается в то, что в польском известно как «речь-трава» – язык, который просто существует, который не сообщает ничего конкретного, который может быть лишь ритуальным выкрикиваемым слоганом. Идеи без формы, пригодные только для того, чтобы их скандировать.
Хуже всего то, что в процессе создания таких общих языков, отмеченных политикой, воруются слова. Какое-нибудь слово с нейтральным значением, скорее всего забытое и весьма архаичное, неожиданно извлекается из кучи старья, чтобы отыскать путь на плакаты и в политические программы. Одним примером из моей собственной страны сегодня является слово «нация». Оказывается, что после вырывания из исторического контекста и небольшого отряхивания от пыли, этот термин служит идеальным конструктом для нового миропорядка. Он настолько уверенно был присвоен, что даже те, кто говорит на другом общем языке, не могут его теперь использовать, поскольку, отягощаемый новыми коннотациями, он стал опасным.
Конечно, некий общий язык должен существовать, чтобы мы могли общаться друг с другом в реальности, о которой мы должны постоянно договариваться. Должно быть пространство всеобщего согласия и единства, и часто простейшие фразы и выражения дают ощущение порядка и позволяют общности чувствовать себя цельной.
Борьба за навязывание общего языка в настоящий момент ведётся не только в парламентах и на телевидении, но и в университетах. Там интеллектуальные тренды накатывают волнами, принося с собой собственные общие языки. Внедрение подобного языка может занять несколько лет, но, однажды принятый, он будет служить не только для того, чтобы наметить картинку мира, но и чтобы создать новые избранные сообщества, членство в которых будет принадлежать одним, а другие будут из них исключены. У каждого поколения есть такой язык, с помощью которого оно описывает мир, и в наши дни новый язык может появляться каждое десятилетие. В то же время такой язык может не осознавать свою эфемерность и ограничения, поскольку он определяет только то, что находится внутри его узких границ.
Нет большего несчастья для человека, чем потерять свой личный язык и заместить его общим. Политики, чиновники, учёные и священники – все они могут с этим столкнуться. И единственным лечением для этого недуга является литература: сталкиваясь с личным языком художника, читатель может усилить своё сопротивление навязываемому извне видению мира. Это веский аргумент, почему стоить читать литературу (и классику тоже), ведь литература показывает, что общие языки однажды существовали по-другому, и, соединяясь с ними, возникали другие способы смотреть на мир. Чтение стоит того именно по этой причине – чтобы узреть другие видения и убедиться, что наш мир – это лишь один из возможных миров и мы, определённо, не ограничены им навсегда.
Ответственность переводчика равна ответственности писателя. Они оба стоят на страже самого важного феномена человеческой цивилизации – возможности передавать другим самый сокровенный индивидуальный опыт и делать этот опыт общественным посредством удивительного акта культурного созидания.
Ольга Токарчук – победитель Международной Букеровской премии в 2018 г. с книгой «Бегуны» , переведённой Дженнифер Крофт, со-победителем Букера 2018.
Авторы из этой статьи
Комментарии 3
Показать все
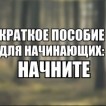
"Ответственность переводчика равна ответственности писателя. Они оба стоят на страже самого важного феномена человеческой цивилизации – возможности передавать другим самый сокровенный индивидуальный опыт и делать этот опыт общественным посредством удивительного акта культурного созидания. "
Приятно читать такое...качество перевода, погружение в жизнь другого государства, людей,
воспитанных на других культурных ценностях, возможно ли это? О результате узнаем позднее...















Интересная статья)